«Я просрала свою карьеру у Володина — и счастлива» Как в атмосфере страха и чинопочитания вырастить независимое СМИ. Рецепт редактора из Саратова Лены Ивановой

Лена Иванова 10 лет руководит независимым региональным СМИ в Саратове — онлайн-информагентством «Свободные новости». Ее, как и всю редакцию, не любят местные чиновники и уважают коллеги. «Свободные» — единственные в регионе, кто независимо пишет про спикера Госдумы Вячеслава Володина, который родом отсюда, из-под Саратова. Чего только не было за эти 10 лет: аресты в прямом эфире, разбитые камеры на выборах, бесконечные вызовы на допросы.
Теперь, после начала «спецоперации», «Свободные» учатся выживать в новых условиях — когда их обвиняют в негативной повестке и разжигании ненависти.
«Гласная» публикует историю о том, как в кротком Саратове выросла такая фигура, как Лена Иванова, под чьим руководством в России до сих пор работает одно из немногих независимых региональных СМИ.
***
Редакция «Свободных новостей» занимает все четыре этажа новодела в центре Саратова. Здание, отделанное фисташковой штукатуркой, выделяется среди ветхих избушек и типовых новостроек.
В понедельник утром в редакции аврал: журналисты «Свободных» мониторят новости и повестку, накопившиеся за выходные. Главная новость этого утра: Саратов не вошел в число городов-миллионников по итогам последней переписи населения, но продолжает оставаться вторым по площади городом в России после Москвы.
В коридорах редакции развешаны логотипы «Свободных»: на бело-голубом фоне. Журналисты шустро бегают с этажа на этаж, замедляясь только за чашкой кофе в подвале: там, на кухне, обсуждаются новости региона, страны и мира, приправленные эмоциями, которых не найти на сайте. Эта открытость и стремительность никак не дают свыкнуться с мыслью, что дело происходит в российской провинции. В редакции работает чуть больше 20 человек: отдел новостей, отдел лонгридов, на мансардном этаже — своя видеостудия.
Таблички на двери одного из кабинетов — «Штаб мысли» и «Доктор Добро» — выдают его хозяйку: главного редактора саратовских «Свободных».
У нее стрижка почти под ноль, стильные очки в толстой черной оправе и две татуировки на правой руке. Она свой парень для сотрудников, но и авторитет: за три часа, что мы разговариваем, в кабинет заглядывают, только предварительно постучав.
Лена Иванова говорит, что еще никогда в своей жизни не давала интервью, хоть и четверть века работает в медиа. А поговорить с ней есть о чем.
«Это не самоцензура — это самосохранение»
В первый день в редакции случился шок [рассказывает Лена про 24 февраля]. Несколько дней подряд никто не улыбался, не было обычных шуток, смеха. Все молчали.
Мне и сейчас иногда не верится, что все это действительно происходит: как одна страна может *** другую?
Мы опубликовали заявление редакции о том, как будем работать дальше, и в нем объяснили, что не хотим, чтобы кто-то из сотрудников отъехал на 20 лет тюрьмы.
Я плакала. Потому что с того момента мы больше не можем делать честную журналистику. И это уже даже не самоцензура — это самосохранение.
В первые дни два сотрудника редакции вышли с антивоенными плакатами к зданию цирка. Их задержали, доставили в отдел, опросили и отпустили: видимо, еще никто не знал, что с этим делать. Но потом, когда узнали, нам пришлось удалить даже эти две заметки про протест наших сотрудников.


Вообще, с тех пор пошла какая-то странная жизнь. После того как мы выпустили заявление редакции, на нас достаточно быстро вышли матери солдат-срочников в Украине. Они пытались найти своих детей, которые до 24 февраля служили в разных войсковых частях на территории России, а потом пропали со связи. Мы очень долго мучились с этой историей, читали и просчитывали все риски. Был момент, когда я думала: если мы убиваем в этом тексте саму жизнь, может, вообще не стоит его выпускать? Потому что это было уже какое-то изнасилование действительности. Матери этих срочников торопили нас, им хотелось, чтобы текст вышел быстрее, но мы ждали ответов на запросы и продолжали работать так, как всегда работали. А когда матери выяснили, где находятся их дети, они прекратили с нами общение.
Их эмоции меня тогда просто удивляли. Женщина сходит с ума от неизвестности, куда пропал ее сын, но она уверена: «специальная операция» — правильное решение российских властей. Думаю, людям настолько вынесли мозг, что в головах уже ничего не осталось, пустота.
Но я рада, что текст вышел: мы понимали, что, кроме нас, им больше некуда пойти. Или мы, или никто.
До этой публикации мы одними из первых рассказали о гибели 19-летнего жителя Саратовской области в ходе «военной спецоперации».
Хороший хлеб
Через неделю после начала «спецоперации» местные телеграм-каналы и публичные лица стали обвинять нас в подрывной деятельности. Нас называли антигосударственниками и обвиняли в том, что мы несем негативную повестку.
Первый донос на нас — а мы расцениваем эти обвинения именно как доносы — 1 марта написала член Общественной палаты области Елена Склярова. Его опубликовало у себя на сайте издание «Аргументы и факты — Саратов». Свой выпад она объяснила «Свободным новостям» тем, что мы «предоставляем информационную площадку для трансляции враждебных взглядов» и «уподобляемся своим старшим либеральным товарищам».
Через два дня в местном телеграм-канале появился критический пост в наш адрес из-за публикации про солдата-срочника. Нас обвиняли в дестабилизации обстановки и подготовке митинга. Мы тогда тоже отреагировали: написали, что пришло время называть вещи своими именами там, где это еще возможно: зло — злом, доносы — доносами, а людей, пишущих доносы, — подонками.
Через две недели после начала «спецоперации» еще один донос — третий — на нас на своей странице в инстаграме написал владелец саратовской пекарни «Хороший хлеб» [и представитель общественной организации «Антидилер»] Илья Левин. Он задавался вопросами, на чьей мы стороне и для чего пытаемся дискредитировать страну и армию. Жуйте, типа, булочки и кайфуйте, в стране все *** [отлично]. Очень надеюсь, что его бизнес *** [рухнет] от позитива.
А в середине июня депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская написала донос прокурору региона с просьбой проверить информацию, опубликованную в телеграм-каналах, о том, что сотрудники местных СМИ — в том числе «Свободных новостей» — якобы участвовали в семинарах под патронажем правительства Великобритании.
«Драйва нет. Глухая тоска»
Спустя несколько месяцев после начала «спецоперации» мы понимаем, что работаем в вакууме. Живем одним днем — какая-то безбудущность: не знаем, что будет завтра и что будет даже сегодня.
Мы договорились с учредителем, что будем осторожными, будем заботиться о безопасности сотрудников, насколько это возможно. Президентские гранты мы никогда не получали — приняли решение не играть ни в какие игры с государством: страшно опасно, посадят. За что — вопрос, не предполагающий логичного ответа в условиях современной России. За что угодно: за невыполнение каких-либо условий гранта, за то, что просто не нравишься.
Решили не принимать участия и в конкурсах на получение иностранных грантов, чтобы нас не признали иноагентом.
Еще мы решили: раз не можем называть *** *** [вещи своими именами], то не будем публиковать и хвалебные релизы властей. Мы не цитируем восторженные оценки власти относительно «спецоперации». Просто ведем на своем сайте список саратовцев, погибших в ходе «спецоперации» в Украине: берем фамилии, в том числе из релизов чиновников, но не приписываем, что они «мужественно защищали страну от нашествия нацистов».




И да, я боюсь, что к нам придут. Хотя готова — как и в предыдущие годы. Но раньше я не боялась, что кого-то могут посадить, а теперь боюсь.
Как работать здесь дальше, не знаю. Я никуда не хочу уезжать. Я много об этом думала, и я не могу себе представить, что я буду делать там, за границей.
Даже в соседнюю Самару не хочу ехать. У меня здесь все точки опоры, хочу жить в своем доме, работать в своей редакции, быть со своей семьей — мужем, сыном, бульдогом Патриком. Мне нужен маленький город: я — человек провинции.
Где мы были 10 лет
Когда «Свободные новости» открывались в 2012-м, это было крутое время.
Тогда в Саратове, после протестных митингов в Москве в декабре 2011-го, тоже состоялся митинг — на него пришло около тысячи человек. Это был первый такой большой митинг на моей памяти.
И люди впервые начали выходить перед толпой и говорить то, что думают. Люди на митинге пробовали на вкус слова «Россия без Путина», и за это тогда не сажали. Я помню, мальчик лет семнадцати сказал, что он не может голосовать, но требует от взрослых защитить его голос.
В 2013 году, помню, после митинга в поддержку узников Болотной площади в Саратове задержали местного юриста Михаила Шаповалова за плакат: «Путин пiдрахуй оставшиеся свободы дни!» Полиция сочла украинское слово, означающее «подсчитай», нецензурным. Мы с нашим шеф-редактором Машей решили пойти к нему на суд: в то время мы были знакомы почти со всеми гражданскими активистами, а Шаповалов был отличным юристом и вообще активным человеком — мы здорово сдружились.
На суд к нему мы пришли в майках с принтом: «Путин пiдрахуй полiтв’язнiв» («Путин, подсчитай политзаключенных»). Один из полицейских с автоматом в перерывах во время суда говорил, что если Шаповалову дадут несколько суток, то «этих двух девок тоже забирайте».
Суд шел 12 часов. В итоге ему дали сутки, но он их к тому моменту уже отсидел. Нас же увезли в отдел, допрашивали еще полтора часа, но потом отпустили. Честно говоря, я и сейчас могу пойти в такой майке на условного Шаповалова. Ну заплачу штраф, ну сяду на двое суток. Я не боюсь этого, я боюсь новых статей. Как сейчас это расценят — как оскорбление власти или как измену родине?
***
Все 10 лет работы редакции мы много наблюдаем за выборами. В дни выборов работает вся редакция — мы ездим по избирательным участкам в мобильной бригаде.
Нас выкидывали с участков и разбивали фотоаппараты, но это было очень кайфовое время, это была надежда. Ощущение, что страна впервые узнала, что выборы фальсифицируют и на это можно влиять. За несколько месяцев общество в Саратове очень сильно сплотилось: гражданские активисты, журналисты, политические партии.
На тех выборах было очень много нарушений, и почти каждый говорил: «Это *** [конец]». Я тогда наблюдала сразу на двух участках в школьном спортзале: на одном как журналист, на другом — как член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса от партии «Справедливая Россия». Вообще, у меня была с собой стопочка направлений от разных партий — на случай, если удалят с избирательного участка как представителя СМИ.
Я перешагивала через скамейки и ходила туда-сюда, с участка на участок. Меня спрашивали: «Вы кто?», я отвечала: «Прокурор» — и всех это устраивало.


На моих участках Путин набрал 47 и 48%, это была моя личная победа и, как я полагаю, показатель его реальной поддержки населением. На других участках, где наблюдателей не было, он «набрал» 82%.
После выборов 2017 года у нас на сайте вышло много роликов с нарушениями, а глава ЦИК Элла Памфилова назвала тогда «паразитами» всех, кто предает огласке эти нарушения. Но из ЦИК в Саратов приехал человек разбираться: позже уволили председателя избиркома, председателей ТИК и УИК. В общем, мы постарались.
В 2012-м, уже перед президентскими выборами, на Масленицу, мы устроили митинг-концерт «Проводы, блин». На нем я ходила обвешанная большими бумажными смайлами на одежде с фразой «Путин, нам смешно», мы хотели всем показать, что власть — это не страшно. Над властью смеялись на кухнях, в офисах, в интернете. Казалось, что вот-вот — и в стране все изменится. Мы ошибались.
Леночке — коньяка, Володину — вина
На некоторые темы, кроме «Свободных», из местных СМИ не пишет никто — например, о Володине. Володин — главный человек в Саратовской области, без его ведома здесь не делается абсолютно ничего.
И сейчас есть мнение, что нас не закрывают, потому что ему не нужен шум в родном Саратове. Хотя я в это не верю: закрыли же и «Новую газету», и «Дождь» — а это больший шум, чем какие-то «Свободные новости» в провинции.
У меня был с ним опыт личного общения, когда мне было 20 с небольшим, — я работала тогда в «Губернских ведомостях». Это была моя первая работа, я была девочкой-припевочкой, защитила диплом по Цветаевой и была вся про любовь. А Володин был тогда вице-губернатором области — молодой и интересный.
И вот наша газета решила написать о нем текст. Я поехала на его родину и написала, как он ездил за штурвалом комбайна и как ходил босыми ногами по траве. Володин почитал, пригласил меня и спросил, откуда я такая взялась. Постепенно я стала вхожа в правительство — писала много текстов с совещаний и встреч с участием Володина.
В 1996 году Володин уезжал из Саратова и приглашал к себе в кабинет разных людей. Пригласил в том числе меня. Я приехала к 10 утра, после дня рождения какого-то художника, и была в крайне тяжелом состоянии. Володин распорядился: «Леночке коньяка, а мне вина».
И сказал тогда на прощание, что «не будем теряться».
В то время он предлагал мне помочь разменять нашу «трешку» — я жила с мамой и с ребенком — на две «однушки». Но потом он уехал, и все это заглохло.
После его отъезда меня часто и много куда приглашали: выборы, совещания, разные должности. Но я тогда думала, что создана исключительно для любви, политика в то время шла мимо меня. Наверное, в каком-то смысле я просрала свою карьеру у Володина — и счастлива, ничуть не жалею. Больше мы с ним никогда лично не общались.
Кроме Володина, мы позволяем себе и много других тем, которых не поднимают местные СМИ. В 2016 году к нам в эфир пришел Вячеслав Мальцев. Во время эфира у него была фраза «Путин *** [потерял] лучшие годы России», и мы сделали об этом отдельную новость.
В тот же день меня пригласили в областную прокуратуру «на чай», но через два часа встречу отменили. А на следующий день в областном РКН прошло заседание с Центром «Э», прокуратурой, минпечати. Туда позвали лучших журналистов Саратова из «правильных СМИ». Нас, конечно, не позвали, но мне потом коллеги рассказывали, что там говорили про нашу редакцию «как они могли такое написать и опубликовать?!» Прокурор потребовал, чтобы нас проверили на терроризм и экстремизм. Они тогда сочли это оскорблением первых лиц государства, хотя закона об оскорблении власти еще не было. Центр «Э» провел даже лингвистическую экспертизу — этим дело и закончилось, никаких документов оттуда нам не поступило.



Потом, в 2018 году, у нас в эфире был руководитель бывшего штаба Навального в Саратове Михаил Мурыгин — после митинга «Он нам не царь», который проходил 5 мая по всей России. Прямо во время эфира к нам пришла полиция, чтобы его задержать, — человек шесть, двое из них с автоматами. Ни у кого не было удостоверений, только у водителя — он официально и задерживал Мурыгина.
Все это было показано у нас в прямом эфире — такая глупость, конечно: люди не подготовились и обосрались. Мы просили правоохранителей привлечь сотрудников полиции к ответственности за воспрепятствование работе журналистов; полицейские в свою очередь требовали привлечь нас — за неповиновение требованиям полицейских. Но и эта история опять ничем не кончилась.
«Мамина молодец»
Наша самая читаемая за все время публикация на сайте называется «Мама — мой самый жестокий насильник», она набрала рекордные полмиллиона просмотров.
Это анонимные истории родительского насилия над детьми. Я написала у себя в соцсетях пост, что мы собираем истории материнского абьюза, и мне прислали в личку кучу историй.
Я убеждена, что образ святой матери гробит людей. Ведь у нас даже если думаешь, что мама была где-то неправа, — значит, ты уже плохой человек.
Моя история среди опубликованных тоже есть. До публикации я отправила ее маме — она позвонила и кричала, что я тварь неблагодарная. В тот момент я была на сеансе, и мой терапевт крепко держал меня за руку.
Впервые я разозлилась на мать несколько лет назад, как раз в кабинете у психотерапевта.
Они с отцом развелись, когда мне было три года, — отец пил, а потом пропал. Моя мама всегда говорила, что когда-нибудь я сдохну под забором, как отец. А я помню, как еще маленькой сидела и гладила его фотографию и мне нравилось, что я больше похожа на него, чем на маму.
Она воспитывала меня в духе Зои Космодемьянской. Я с детства не умею терпеть поражение. Если на меня давят, у меня очень сильное сопротивление — я должна выжить и победить.
Я всегда должна была быть лучше всех — идеальной, отличницей, активисткой, — иначе скажут, что «Тамара плохо воспитывает дочь, потому что она мать-одиночка». В пионеры меня принимали одной из первых — «мамина молодец».
Я не имела права плакать и должна была быть сильной, хотя при этом были и двойные стандарты — «ты же девочка».
В шесть лет я лечила зубы без укола и не плакала. Я не плакала, даже когда рожала: нельзя же показывать свои эмоции. Рядом со мной лежала девушка, она очень сильно кричала, около нее бегали врачи. А я молчала, на мои жалобы врач только бросил: «Хватит тебе, что ль!» И только когда у меня открылось кровотечение, меня отправили в родовое отделение.
В детстве мама меня порола — даже за четверки. А сейчас она не понимает, как у меня может быть какая-то там депрессия или травмы. Говорит, что у меня было хорошее детство и что я очень любила свою первую учительницу.
А я ни за что бы не вернулась в свое детство: моя первая учительница была тираном и диктатором. А в четвертом классе наша классная руководительница поднимала какого-нибудь ученика из-за парты, и все рассказывали ему, что он никто и, когда он вырастет, его не возьмут даже делать табуретки. И четвероклашки принимали участие в этом линчевании.
Я однажды не попросила перед всем классом прощения за свою «измену»: я читала лекции в комнате Ленина, в то время как наша классная руководительница курировала другой школьный музей. Я должна была, по мнению учительницы, видимо, догадаться, что это политический момент и так делать было нельзя. И мне объявили бойкот: полгода со мной никто не разговаривал, после уроков дети бежали и бросали в меня камни, но я никогда не плакала. Приходила домой, закрывала дверь — и там уже лежала и плакала.
Перевестись в другую школу было нельзя в то время. Одна девочка присоединилась ко мне и выдержала два дня, другая была со мной до конца — пока нас не перевели в другой класс.
Я своего ребенка уже не била — один раз шлепнула его в два года, ушла в другую комнату и разревелась. Потом сказала себе, что не буду, как мама, так что он вырос у меня, как говорят, непоротый.


Я уже четыре года в терапии и до сих пор работаю с этим. И мне важно называть насилие насилием. Отсюда мои невралгия и ПТСР: тело можно бить, насиловать — меня никто не учил защищать свое тело. Я пришла к психотерапевту, когда у меня начался сильный болевой синдром: я не могла дверь машины открыть, окно, ходила по ревматологам, неврологам. Невролог посоветовала психотерапевта: молодой парень лет тридцати. Я думаю: да это что, я же раздавлю его своими страданиями!
Мы поговорили про боль и меня, и у меня было ощущение, что я сижу на краю гнезда и в каждую секунду готова взлететь с тревогой и мчаться куда-то. Я не могу грохнуться в это гнездо попой, чтобы просто расслабиться. Потом он сказал мне: «У вас, наверное, была шоковая травма». Я говорю: «Нет, у меня никто не умирал из близких, ничего такого». А потом мы стали доставать мои травмы — и с матерью, и с первым мужем-абьюзером. Меня преследуют флешбэки, ночные кошмары, что кто-то бежит с оружием и палками за мной. Как-то недавно я проснулась оттого, что села в кровати, то есть наконец смогла во сне сопротивляться.
«Харассмент цвел пышным цветом»
Моими начальниками на работе всегда были мужчины. Один, приехавший в Саратов москвич, как-то сказал: «Я сделаю тебя заместителем главного редактора, но буду трахать тебя когда захочу и сколько захочу». Говорил, что «в Москве потрахаться — это как стакан воды выпить». Когда я сказала нет, он послал меня на ***.
На другом месте работы заместитель главреда объяснял, что я не умею выбирать мужчин (я тогда была замужем) и, если бы я выбрала его, у меня была бы и квартира в центре города, и высокооплачиваемая няня для ребенка. Я ответила: «Слушай, чувак, какая высокооплачиваемая няня — зачем ты у меня тогда на пиво каждый день стреляешь?»
Он сказал: «Да как ты смеешь?» — и бросил в меня мои же туфли — сменку, которая лежала под столом. К тому моменту я уже научилась отвечать и сказала: «Петр Николаевич, *** от меня, пожалуйста». Наутро главред сказал, что, раз ты поссорилась с замом, давай ты уйдешь. Я не стала спорить и ушла.
Потом пришла на пробу на телевидение. Мы хотели сделать программу с одним из руководителей ГТРК. Когда обсуждали, он сказал, что хочет меня. Я отступила к двери и сказала нет. Тогда он ответил: «Ну хоть посмотри», снял штаны и показал мне свой эрегированный член.
Этот член я, наверное никогда не забуду, сейчас рассказываю — и мурашки, настолько это отвратительно. В общем, на телевидение я тоже больше не ходила.
Наверное, харассмент, который цвел в 90-е годы пышным цветом, отчасти натолкнул меня на мысль делать свое медиа.

В 2002–2003 годах я исключительно на рекламные деньги выпускала глянцевый журнал «Дирижабль» — он был светским, истории про людей.
Мне было очень сложно звонить людям и просить купить рекламу. Знакомые предлагали деньги просто так, но я отвечала: «Денег не возьму, купите пару страниц».
Журнал выходил три года. Когда я только выпустила первый номер, у меня случился перелом позвоночника. Мне нельзя было сидеть — только стоять и лежать. Я год провела на больничном, люди приезжали ко мне домой на интервью. Так «Дирижабль» меня спас: если бы его не было, я бы лежала, смотрела в потолок и рыдала. Три года делала медиа стоя и лежа.
Позже, когда мы уже открывали «Свободные новости», я пришла к главным редакторам других изданий за советами. Все они снова были мужчинами. Один из них не верил в наши — и мои — силы, сказал: «Лен, зачем тебе это надо? Ниша занята». Но я же не умею проигрывать.
«Страх не довлеет надо мной»
К 46 годам я осознала, что у меня до хера травм, в том числе шоковая.
Хотя я до сих пор не научилась окончательно принимать свое тело и продолжаю работать со своими детскими и юношескими травмами, у меня есть наипрекраснейший муж (третий), есть сын, дом, сад, собака.
Вскоре после того, как я начала ходить к психотерапевту, я сделала татуировку на руке — маленькую девочку, которая ни в чем не виновата. Я разрешила себе ее, потому что разрешила себе управлять своим телом. Осознала, что можно жалеть себя и не испытывать при этом унижения. Того, к которому нас приучила система.
Во время психотерапии я провела несколько недель в Саратовской областной психиатрической больнице святой Софии.
Не знаю, зачем я туда вообще поехала, я была в тяжелом психическом состоянии — фибромиалгия и тревожное расстройство, — и знакомая предложила «полежать» у другой знакомой, заведующей отделением этой больницы. Когда меня положили, она сказала, что я «выйду другим человеком». Не обманула.
Психиатрическая больница в России — это очень унизительно: ты не человек, ты вещь. Сначала ты живешь среди единомышленников, где есть понимание и забота друг о друге, где комфортно и безопасно, и вдруг в больнице тебе говорят: ты вообще никто. Неважно, кем ты работаешь, что чувствуешь, какие ты книжки прочитал.
Мои травмы усугубились. Но благодаря этому опыту я смогла честно рассказать, как больница устроена изнутри и какой ад там происходит. Страх, насилие, ненависть и бесконечные доносы друг на друга — просто Россия в миниатюре.
Моя статья у нас на сайте набрала около 50 тысяч просмотров — довольно много (для нас 5–10 тысяч просмотров уже много).
Мы с юристом писали во все инстанции: жаловались на плохие условия, на психологическое давление, на то, что пациентов заставляют работать вместо санитаров, на то, что меня ударили кулаком в живот, — в общем, на все, о чем я написала в публикации. Отправили жалобы в местный и федеральный минздравы, в Росздрав — поначалу получили ответы, что изложенные жалобы не подтвердились. Позже они все-таки нашли «виноватую» — уволили старшую медсестру, с которой я даже не общалась, а санитарку, которая била меня в живот, оставили. Заведующую отделением, в котором я лежала, перевели в отделение с еще более сложными диагнозами, целиком женское. Зато уволили главврача, на некоторых сотрудников больницы заводят уголовные дела — думаю, не только из-за нас, были и другие претензии, но и мы явно способствовали.
Поначалу было страшно публично сказать: «у меня депрессия», «я лежала в психиатрической больнице», «я хожу к психотерапевту» — господи, какой позор, это же какие-то невозможные вещи. Но я сделала этот каминг-аут еще и потому, что мне важно было победить свой страх: он больше не довлеет надо мной.

***
После начала терапии я год не общалась с мамой.
Сейчас мы разговариваем, но уже на каком-то новом уровне — ей пришлось принять меня новую. С началом «спецоперации» я поговорила с мамой и впервые осознала, что такое гражданская война. Это просто ад. Восемь лет назад она тоже сказала: «Мы всех победим». На мой вопрос: «А зачем?» — она ответила: «Потому что мы сильная страна».
Многое про меня ей до сих пор непонятно — например, чем я занимаюсь на работе, почему мы с мужем не смотрим телевизор и откуда еще узнаем новости. Она говорит про нас: «Чудные вы какие-то».
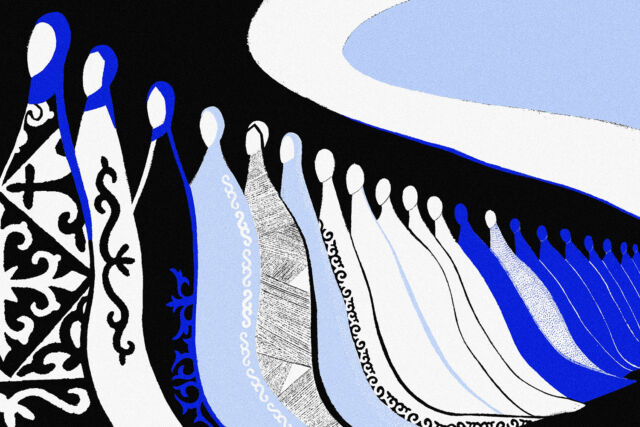
Марина мечтала о сцене и журналистике, но стала женой чеченского силовика. Ее история — о насилии и удачном побеге

Как анонимный чат психологической помощи «1221» помогает подросткам

Российская беженка, которая прошла секты и проституцию, решила стать психологом, чтобы помогать другим


Как побег из семьи становится единственным способом избавиться от постоянного насилия

Как первые женщины-политзаключенные ценой собственной жизни изменили порядки в российских тюрьмах в XIX веке
